Результатом коммуникации является её результат, а не исходное намерение
Один из важных постулатов риторики — «результатом коммуникации является её результат, а не ожидание выполнения намерения говорящего». Если вы хотите, чтобы некто X сделал дело Y, а в результате коммуникации X делает дело Z, то результатом коммуникации будет сделанное дело Z, а не дело Y.
Как строить по возможности менее конфликтную коммуникацию, если вам важен её результат, и вашим собеседникам важен результат — но их желаемый результат отличается от вашего? Речь идёт уже не столько о просто «общении» и риторике как построении собственной речи, сколько о «переговорах» — стороны уговаривают друг друга что-то сделать, коммуникация является убеждающей. И конфликты в такой коммуникации (несовпадения в целях, средствах, предпочтениях в начале коммуникации есть всегда!) поджидают на любом повороте разговора.
Поль Грайс предложил серию постулатов, описывающих процесс коммуникации — и подошёл к коммуникации с точки зрения логики. Его работа 1975 года так и называется: «Логика и речевое общение»[1]:
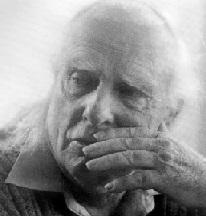
«Предположим, А и Б разговаривают о своём общем приятеле В, работающем в банке. А спрашивает, как дела у В на работе, и Б отвечает: «Думаю, более или менее в порядке: ему нравятся сослуживцы, и он ещё не попал в тюрьму». Тут А вполне может поинтересоваться, что Б имеет в виду, на что он намекает или даже что значат его слова о том, что В ещё не попал в тюрьму; в ответ А может услышать, что В не тот человек, который неспособен поддаться искушению своей профессии, или что на самом деле сослуживцы В — люди крайне неприятные и вероломные или что-нибудь ещё в том же духе. Конечно, у А может и не возникнуть необходимости обращаться к Б с вопросом — если в данном контексте ответ известен ему заранее. В любом случае мне кажется очевидным следующее: то, что (в рассмотренном примере) Б подразумевал, имел в виду, на что он намекал и т. д., отличается от того, что он сказал — сказано было только то, что В ещё не попал в тюрьму».
В общении нужно быть крайне внимательным, и оно полно неожиданностей. Так, в ответ на вопрос за столом: «Вы могли бы дотянуться до соли?», мы не скажем «да» и продолжим дальше есть, а почему-то передаём соль. Что заставляет нас воспринимать данный вопрос не как вопрос, а как косвенно высказанную просьбу?
Ряд своих постулатов П. Грайс объединил под общей шапкой «кооперативного принципа»: «Делайте ваш вклад в разговор таким, как это требуется на данной стадии в соответствии с принятой целью или направлением беседы, в которой вы принимаете участие». Это общее требование далее у Грайса разбивается на более детальные:
Делайте ваш вклад столь информативным, насколько это требуется.
Не делайте своего вклада более информативным, чем нужно.
Не говорите того, что вы считаете ложью.
Не говорите того, для подтверждения чего у вас нет достаточных доказательств.
Будьте релевантным (говорите по делу).
Будьте ясным и понятным, избегая двусмысленности, длиннот и т.д.
Это абсолютно бесполезно звучащие предложения, ибо как вы узнаете, что ваш вклад информативен не более и не менее, чем надо? Но это 1975 год, и тогда такие формулировки были нормальными, особенно с учётом того, что Грайс подробно потом прописывал, как нужно трактовать эти принципы, на что конкретно обращать внимание.
Вот как в этом стиле можно изложить принципы курса «Интеллект-стек»: «1. Станьте умней, и не меньше, чем надо. 2. Сразу применяйте свою новую умность на работе». Для неспешливого 1975 года это всё было бы ОК, вполне SoTA, но сегодня такие утверждения не выглядят принципами. В ответ вы бы сказали себе: «Спасибо, кэп». И закрыли бы курс. Так закрывают сегодня и тексты Грайса, хотя если прорваться в них дальше оглавления, то в этих текстах можно найти довольно много любопытных отдельных риторических приёмов, но не так много объяснительной теории.
И всё-таки за прошедшие со времени выпуска классических работ Грайса (конец 20 века) в риторике произошло много интересного. Современная риторика существенно отличается не только от риторики древних греков, но и от риторики 1975 года. И это отличие не только в том, что риторикой теперь более-менее успешно занимается и машинный интеллект (проект IBM Debater ещё в начале 2019 года принимал участие в дебатах, хотя и проиграл[2] — но оказалось, что это вполне достойный соперник для чемпиона мира по дебатам!).
Например, вышло множество работ по нарративистике. У вас в голове находится семантическая сеть (запутанный клубок объектов и отношений), и вы хотите передать это знание вашему собеседнику. Как этот клубок развернуть в речь? Собеседник ведь не компьютер! Эта сеть — модель ситуации, и собеседник модель не поймёт, ещё нужно передать метамодель, но ещё нужно и удержать внимание собеседника. Поэтому в нарративистике обсуждаются способы построения текста как разворачивания клубка идей в развёрнутую последовательную речь, равно как и способы сделать эту речь понятной, равно как и способы удержать внимание. Это деформализация/рендеринг/демоделирование, мы обсуждали это в разделе семантики нашего курса.
От разговора в терминах абстрактных объектов и отношений теоретической теории/theorytheory понятий вы должны перейти к разговору с примерами, вы должны рассказывать интересные истории, вы должны вызывать эмоции, вы можете перейти от точной онтологической речи к неточной метафорической в рамках прототипной теории понятий, но зато переключающей внимание собеседника к какой-то новой предметной области. Вы должны стать творцом-литератором, «глаголом жечь сердца людей» — эмоциональное состояние собеседника вам тоже важно, ваша речь должна быть эстетична: красива и интересна! И вы должны отследить, что ваша коммуникация преследует какую-то цель (тот самый «результат коммуникации, который её результат»), а не просто развлекает (хотя и развлечение может быть целью!), и передаваемые вами знания являются объяснениями, а не просто набором каких-то идей.
Всему этому (и многому другому) нужно учиться. Современная риторика обсуждает, что именно и как нужно обсудить обязательно, а от обсуждения чего нужно (иногда временно, иногда и навсегда) отказаться. То есть требования (обратите внимание: требования, а не гипотезы! Это середина 70х!) Поля Грайса к коммуникации за последнее время не столько были прокритикованы (как критиковать предложение говорить что-то «насколько это требуется?»), сколько переформулированы в конкретные рекомендации. Они больше не звучат как предложение быть здоровым и богатым в коммуникации, а не бедным и больным.
Скажем, вместо «скажите ровно столько, сколько надо» рекомендация риторики сегодня включает явное указание роли, из которой вы говорите текст и проговаривание ожиданий этой роли по форме ответа собеседника. Ещё полезно указать роль, отыгрывание которой ожидается от собеседника (и может быть отдельный такт коммуникации, обсуждающий эту роль, если она будет собеседнику неожиданна).
Все эти рекомендации выглядят очевидными, когда вы обращаетесь к универсальному AI-боту и занимаетесь prompt engineering, но и когда вы обращаетесь к человеку, нельзя ожидать, что он задействует в ответе какую-то правильную часть своей нейросети живого мозга, чтобы дать вам ответ исходя из ожидаемой вами роли — «чтения мыслей» не существует, это всё надо проговаривать явно, как и с универсальным AI-агентом, внимание к какой-то предметной области надо привлекать специально! Используйте принципы prompt engineering в общении с обычными людьми, это и есть современная риторика!
Ещё важно давать контекст ситуации вопроса, и если в случае AI-бота этот контекст прямо призывают давать в максимальной степени, то в случае людей почему-то считается, что люди как-то сами смогут понять контекст, им хорошо известна ситуация. Нет, с людьми контекст надо тоже задавать явно, напоминать этот контекст даже для тех людей, кто его вроде бы знает — представления о ситуации у разных агентов будут разными, их нужно тоже обсуждать явно.
Вы не получите сейчас от современной риторики банальную рекомендацию «говорите по делу» (а что, вы разве не по делу говорите?!), вы получите набор советов, как собеседник (а не вы!) решает, говорите ли вы по делу, и что надо сделать, чтобы собеседник (а не вы!) решил, что вы говорите по делу. «По делу» — это для того, чтобы можно было сделать очередной шаг в коллективной деятельности, чтобы собеседники убедились, что можно от слов перейти к делу. Ещё и ещё раз сегодня вам объяснят, что результатом коммуникации является её деятельностный результат (что произошло в жизни), а не ваши хотелки от разговора**, не ваша** желаемая модель результата**. Если собеседник плюнул и ушёл, а вы хотели добра и мира на всей** З****емле, то результатом вашей коммуникации является не добро и мир, а «собеседник плюнул и ушёл» — это и есть результат! Как ни странно, требуется немалый тренинг, чтобы сжиться с этой простой и тривиальной мыслью и перестать махать после драки-коммуникации словесным кулаком: «но я же…! А он…! А она…! А они! А я только…!». Результат получен, вы помогли своими репликами получить его таким, каким он получился. Нужно учиться риторике, чтобы результат совпадал с вашими ожиданиями результата, чтобы ваша речь была убедительной, а не разрушительной.
Коммуникация, которая проводится против воли собеседника и нарушает его границы (которые он сам себе устанавливает, но ожидается, что эти самопровозглашённые границы всё-таки уважаются**), называется насильственной, и лучше бы, если** бы она была ненасильственной. В разумных пределах, конечно, без того, чтобы поддерживать wokeism**, культ жертвы**[3]. Ненасильственное общение/коммуникация/риторика базируется на следующих идеях[4], которые сегодня формулируются менее поэтически:
- Само-эмпатия, как глубокое и эмоциональное переживание, осознание своего собственного опыта и выражение осознанного чувства в форме «Я-высказывания». Говорите о себе, а не о партнёре.
- Эмпатия, как «понимание сердцем» потребностей партнёра по общению и передачи ему этого понимания, видя в нём все только хорошее и красивое.
- Честное самовыражение, как аутентичное выражение себя таким образом, чтобы оно пробуждало сострадание в другом человеке. При этом вы должны понимать, что видеть во всех собеседниках страдающих людей и сострадать сутками — это не каждый собеседник выдержит.
«Понимание сердцем», «голосование сердцем», «принятие этических решений сердцем» — это не слишком рационально, это прямое обращение к S1 интуиции и это сразу ведёт к многочисленным неотслеживаемым ошибкам в мышлении. Современная ненасильственная коммуникация становится постепенно более рациональной и менее фантазийной, усилия направлены на рациональное понимание эмоций, уж насколько это возможно.
Обратите внимание, что эта коммуникация центрируется не на высказываниях о собеседнике, от этого предлагается воздержаться. Вместо этого высказывания идут о себе и своих моделях (в том числе по поводу собеседника и его моделей). Так, вы не говорите: «ты идиот», а говорите «я смущён, ибо при попытке рассуждения с вашими аргументами я пришёл к противоречию». Это вполне рационально, несмотря на все эти «понимания сердцем». С другой стороны, этим «я-высказываниям» сейчас учат массово, поэтому собеседник может чувствовать «недоговаривание и скрытность в мыслях», «использование разговора по учебнику», а не искреннее высказывание, формальный подход к коммуникации.
Следите также за психологическим комфортом вашего собеседника, который будет неминуемо падать при указании вами на когнитивные искажения, несоответствия метафор ситуации, уточнения неверно употреблённых типов. Собеседникам обычно очень некомфортно, когда им начинают выпрямлять льющийся из них поток интуитивных мыслей (говорят «поток сознания», но в том-то и проблема, что сознания в этом потоке нет, сознание как раз про удержание S2, а тут поток S1) со всей встроенной в него нелогичностью. И у вас должны быть способы этой некомфортности для ваших собеседников избегать, вести беседы без эмоциональных конфликтов.
Например, в нейролингвистическом программировании предупреждают, что техника мета-моделирования[5], направленная на поиск когнитивных искажений и пробелов в мышлении, вызывает резкое улучшение внятности и резкую неприязнь у того, чью внятность повышают. Если выясняется, что наш свежеобученный адепт логического мышления будет приводить в бешенство всех людей, с кем он начинает разговаривать, ибо фиксируется только на выискивании ошибок, не видит за деревьями ошибок в отдельных высказываниях леса общей направленности рассуждения — это нельзя будет считать хорошим результатом, но именно такой результат вполне вероятен и нужно эти риски как-то учесть.
А ещё нужно учесть, что вы не просто так общаетесь. У вас обычно есть какая-то цель, вам нужно убедить собеседников не в верности вашей картины мира, а в необходимости выполнения совместного действия для достижения ваших и их целей.
Есть множество примеров построения такой ненасильственной коммуникации даже в самых чувствительных к появлению сильных эмоций областях. Например, «уличные эпистемологи»[6] разрабатывают приёмы общения, с помощью которых можно:
- Проверять на прочность свои и чужие убеждения, выяснять основания убеждений и проверять, насколько они надёжны.
- Обсуждать острые темы, без конфликта и спора говорить об убеждениях, в которых собеседники не согласны.
- Понимать, почему люди во что-то верят, узнавать, как собеседник строит мировоззрение.
Уличная эпистемология — это глубокие, вежливые и не конфронтационные разговоры о том, во что люди верят, и, главное, почему. Это метод ведения диалога, в котором вы помогаете собеседнику обдумать надёжность его способа познания (эпистемология как раз наука о познании, в интеллект-стеке мы отдельно обсуждали рациональность и познание/исследования). Если выясняется, что способ познания ненадёжен, то познанное убеждение становится гораздо проще пересмотреть. Почему эпистемология «уличная»? У сообщества практикующих такие приёмы общения есть практика тренинга своих умений: предлагать с ними поспорить прямо на улице, с записью на камеру — и далее видеоролик спора выкладывается в интернет, фиксируя спор и его результат. Темы споров самые разные, но вызывающие море эмоций: например, религиозные убеждения или политика.
Важнейшей идеей, привязывающей риторику к остальному интеллект-стеку, является понятийное расстояние[7] — сколько разных объяснений в их плотной паутине (explanation web) нужно знать собеседнику, чтобы он смог понять конечное/целевое объяснение. Если пятиклассник средней школы вас спросил про то, как взять вот этот вот интеграл из программы по высшей математике второго курса мехмата (увидел где-то в интересной ему книжке на первой же странице, и ничего не понял), то его будет трудно убедить, что потребуется несколько лет объяснений, чтобы он разобрался. В ответ вы услышите «если вы не можете объяснить сложную концепцию пятилетнему ребёнку, значит вы сами не разобрались». Это ерунда, иначе вузы массово учили бы пятилетних деток, ибо там преподы вполне разобрались в своих предметах, а потом крупные фирмы брали бы этих пятилеток на работу**, им же всё уже объяснили!**
Увы, в разговорах взрослых часто возникает ровно такая же ситуация. Если вы попытаетесь рассказать что-то сложное на тему риторики, а ваш собеседник только собран, и ничего больше (не подозревает о семантике, теории понятий, онтологии, логике, рациональности, познании/исследованиях), то у вас будут огромные проблемы. Понятийные расстояния всегда оказываются больше, чем вы ожидаете.
Впрочем, если ваш собеседник попытается что-то объяснить вам, то всё будет тем же самым: в ходе беседы вы вряд ли быстро доучитесь до уровня понимания длинной цепочки дисциплин того мыслительного стека (включая прикладные дисциплины, а не только дисциплины интеллект-стека), которым пользуется ваш собеседник-специалист.