Практика корпоративной подназдорности (corporate governance)
Корпоративная подназорность/corporate governance[1] (общепринятый перевод — «корпоративное управление», но речь не идёт об управлении компанией, перевод governance лучше давать как «подназорность») определяется очень по-разному, но в широком смысле это практика успешности компании в том смысле, в каком говорят об успешных системах/successful systems в части удовлетворения интересов самых разных проектных ролей для системы: корпоративная поднадзорность гарантирует, что компания будет служить интересам самых разных внешних проектных ролей для самой компании как целевой системы инвестиционного проекта её собственников. В более узком значении и без использования эвфемизмов — это практика прислеживания за тем, чтобы служащие компании (в том числе, и даже особенно — менеджеры) не воровали деньги инвесторов.
Простейший сценарий: менеджеры фирмы хорошо выполняют роль бизнесмена (коллективно!), готовят великолепную бизнес-модель, получают инвестиции, делят их между собой как «сверхвысокая зарплата правлению компании» и «оплата ненужных сервисов с возвратом денег лично подписавшему контракт, а не фирме» (то есть «откат»), способов вывести деньги из фирмы для менеджеров придумано много. Потом менеджеры могут расслабиться, и ничего не делать, хотя для виду потратить немного на оборудование и пару наёмных сотрудников, затем сказать, «всё, компания разорилась, но мы честно работали, а вы, инвесторы, спишите ваши инвестиции как убыток, неудачная инвестиция, уж так сложилось». Можно защищаться от такого, предлагая опционы, которые сделают менеджеров богаче легальным путём, но и эта практика имеет минусы. Можно организовать аудит деятельности менеджеров, подчинённый непосредственно владельцам, но этот аудит не всё сможет выявить.
В реальности всё сильно запутанней, плюс ещё на тему владения компаниями ещё и развитое госрегулирование, которое нужно тоже соблюдать. Если страна близка к социализму, то там и частной собственности нет, если чуть дальше, то может существовать концепция «эффективного собственника», где собственность можно отобрать у собственника под предлогом, что он ей не управляет, вариантов тут тоже много. При этом и при капитализме растёт движение за то, чтобы компании свои деньги направляли не собственникам и заботились не об интересах собственников, а на что-то другое. Так, ESG (Environmental, Social and Governance) investing — иначе известное как «социально-ответственное инвестирование» подразумевает, что инвесторы вкладываются в компании, которые каким-то образом не просто зарабатывают прибыль, а тратят деньги и на защиту окружающей среды, и на борьбу с бедностью, и на прочие цели, которые явно противоречат тому, чтобы просто заработать деньги и отдать их инвесторам (а те, если хотят, могут отдать их в благотворительный фонд). Эти социалистические идеи активно распространяются, при этом миф о том, что финансово ESG-инвестирование так же выгодно, как и просто инвестирование, но только нужно хорошенько подумать и «что-нибудь придумать, чтобы оставаться конкурентоспособными при всей благотворительности», активно распространяется. Как надо? Компаниям надо честно зарабатывать деньги, отдавать деньги инвесторам. Если инвесторы хотят, они вместо вложения денег в компании могут отдать (не вложить! Просто отдать) уже собственные деньги (каждый инвестор — свои, а не общие для них деньги компании) на цели, которые сочтут нужными: поддержку политических партий, просвещение, защиту редких животных, борьбу с голодом, исследования по биологическому бессмертию и т.д.
Идея сверхпопулярной книги Deborah Hicks Midanek «The Governance Revolution: What Every Board Member Needs to Know, NOW!», 2018, идёт ещё дальше.
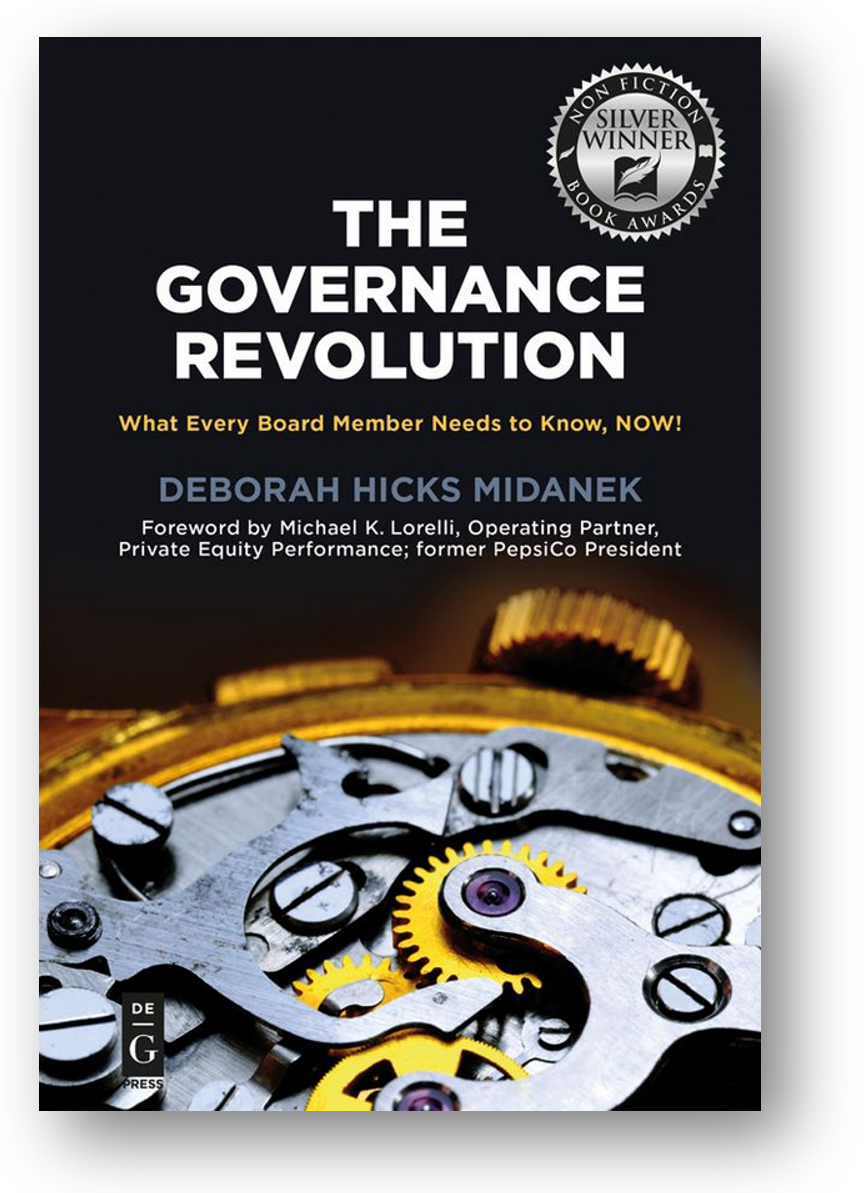
Акционеры (shareholders, держатели долей, не путать с внешними ролями, stakeholders) объявляются имеющими влияние на компанию, но не собственниками. Между акционерами::сообщество и компанией::оргзвено появляется промежуточное оргзвено: совет директоров, который защищает компанию от собственников. Тем самым структура владения компании такая: работники, которые управляются (management) менеджерами, дальше corporate governance как совет директоров (board of directors или часто просто board), а затем уже владельцы-инвесторы. И говорится, что интересы всех уровней управления абсолютно разные, межвременные предпочтения («маленькие деньги и маленький риск сейчас или большие деньги и большой риск в будущем») тоже крайне разные, и поэтому «они никогда не договорятся, надо просто это признать». Да, теория говорит, что на разных системных уровнях у всех систем интересы разные, поэтому будет всегда множество самых разных вариантов многоуровневой организации, которые всегда будут неоптимальны, а только квазиоптимальны и крайне неустроенны/неустаканенны/frustrated (то есть легко будут меняться). Говоря о разных системных уровнях организации как уровнях распоряжения трудом и капиталом, мы понимаем, что есть оргзвенья, которые являются частями друг друга, и вот саму фирму очень грубо можно рассматривать как неотъемлемую часть её собственника (это обсуждалось ещё в курсе системной инженерии, когда говорилось про людей). Всё это сильно осложняется тем, что собственников обычно много и говорить «одна рука на двоих» — уж слишком метафорично. При этом рука без человека в целом работать не будет, а вот фирма у нового владельца — будет. Тем не менее, общие выводы теории, что договориться в этих условиях не удастся по буквально термодинамическим причинам (помним работы Ванчурина-Кацнельсона-Вольфа-Кунина), можно считать верными и для этой ситуации: вариантов оптимального структурирования оргструктуры существует огромное количество, но все они квазиоптимальны и не слишком устойчивы.
Отчуждение совета директоров от собственников, «которые не понимают в бизнесе, а хотят побольше денег, а случись чего, просто перепродадут свои акции, каждый из этой толпы немного потеряет — но компания обесценится» настолько уже велико, что в совет директоров вводят «независимых директоров», которые не являются собственниками, но которые могли бы улучшить управление. Тут не надо путать модных ныне для маленьких компаний менторов и коучей (в России смесь ролей ментора и коуча назвали трекер[2], но в мире этот термин по факту не используется) из **ускорителей/**accelerators, которые дают **основателям/**founders советы, но дальше основатели вольны их или использовать, или не использовать. Тут же даже независимые члены совета директоров имеют право голоса, то есть участвуют в принятии решений как полномочные представители — кого? Представители окружения компании, с интересами, отличными от интересов краткосрочной выгоды спекулятивных владельцев акций, в этом их назначение.
Так какая же цель управления компанией, если не заработать деньги для собственников? Сохранить компанию, то есть не «деньги сейчас», а «деньги сейчас и в будущем»! Всё то же самое, на самых разных уровнях агентов, которые могут как-то различить себя и окружающую среду и предпринять усилия для сохранения собственной стабильности в мире: снизить неприятный сюрприз исчезновения! И ответом на вопрос, если занимать эту позицию, где накапливать деньги (отдавать клиентам в виде скидки, оставлять на развитие фирмы, отдавать сотрудникам фирмы в лице инженеров целевой системы в виде высокой зарплаты, отдавать менеджерам фирмы в виде бонуса, отдавать инвесторам в виде дивидендов) является по факту «оставлять в фирме на рост», при этом инвесторы получают свою прибыль, торгуя частями долей в фирме, у которой растёт цена, то есть они не в убытке (равно как не в убытке следующие акционеры, которые купили долю у инвесторов).
Это всё простые ситуации. Жизнь же даёт более сложные примеры. Как, например, быть, если к вам в генерирующую энергокомпанию приходит представитель организации-мажоритарного-акционера и говорит, что «акционер для вашей компании сегодня — это я. Поэтому вы сейчас все свободные деньги, а также все деньги, которые вы отложили для закупки топлива в следующем году, а также отложенные для ремонтов и модернизации оборудования деньги, а также можете ещё и в банке занять немного, чтобы этих денег стало побольше — вот все их вы выплатите как дивиденды. Мой интерес в том, что я абсолютно по-белому получу огромный бонус от компании, которая меня назначила на мой пост, у меня KPI как раз сумма дивидендов от вас. А в следующем году будет ротация кадров, вам представителем назначат другого человека, вот он пусть и расхлёбывает, что в этой ситуации будет с компанией, пусть придумывает, что можно сделать». Увы, это не выдуманная ситуация, такое авторам курса приходилось видеть в жизни. Как с таким бороться, и можно ли вообще с таким бороться? Да, это такое «лидерство»: надо заставить представителя акционера играть роль акционера, но это довольно трудно (в принципе, этот приём работает и со случаями саботажа других ролей, но требует исключительно больших затрат сил):
- Вы хорошо понимаете (обучены!), как должен вести себя «настоящий акционер», какие решения он должен принимать согласно best practices.
- Вы должны выполнить работу «по норме», записать это решение (например, в формате презентации), а также записать последствия этого решения для компании.
- Вы должны в том же формате документировать указание акционера, а хоть и устное, и показать решения для компании. Это надо сделать в том же документе, оценивая альтернативы. Ключевое тут — сам факт наличия документированного сравнения этих решений. То, что этот документ с разбором последствий от неправильно принимаемых ролевых решений можно показывать разным людям и он не исчезнет сам по себе от высказываемых угроз, существенно охлаждает пыл угрожающих начальников.
- Далее нужно запросить мнение внешних ролей в организации, которая назначила представителя в совете директоров по поводу того, что они думают про такие решения. Ибо прямой конфликт с представителем акционера — не работает, разговаривать надо не с ним, а его окружением. Разговаривать даже необязательно вам, но вы должны быть уверены, что предлагаемый «за акционера» вариант и его последствия и предлагаемый «за фейкового акционера» вариант и его последствия показаны и сравнены профессионально, логика должна быть безупречна.
- Дальше ситуация будет меняться. Вообще, этот принцип надо хорошо запомнить: с начальниками, представителями собственников и т.д. не дружат, а дружат на уровень выше них (грубо говоря, не водите дружбу с начальниками, но водите дружбу с начальниками начальников — вот это в критический момент вам поможет. Ошибку или даже злой умысел начальника дружбой с начальником не исправишь, а вот дружба с начальником начальника — она поможет).
Один инвестор, который увеличивает собственность за счёт интересов другого инвестора — это тоже забота корпоративной поднадзорности. Скажем, стало известно, что компания будет сверхприбыльна, у одного акционера доля 70% (это мажоритарный акционер, с большим влиянием на голосование), у другого 30% (миноритарный акционер, маленькое влияние на голосование), обсуждается вопрос инвестиций в рост. Оценка компании — миллион долларов. Первый акционер говорит: «Давай вложим в компанию ещё миллиард долларов, она будет сверхприбыльна, а чтобы доли были равные, то я вложу $700 миллионов, а ты $300 миллионов. Ах, у тебя нет денег? Как жаль! Тогда все нужные деньги вложу я, проголосовать против ты не сможешь, но у тебя теперь будет доля в 1%, а не 30%». Цифры тут вымышленные, но сама ситуация крайне частая, абсолютно типовая. Конфликты между «партнёрами по бизнесу» (собственникам компании, владельцами долей в компании) случаются много чаще, чем известно широкой публике, просто их не афишируют.
Конфликт между собственниками и менеджментом тоже более чем част. Скажем, менеджмент может предложить выкуп менеджментом/managementbuyout[3], выкуп компании у собственников текущей командой менеджеров за небольшие, иногда даже символические деньги. Это не совсем та ситуация, о которой можно прочесть в учебниках по инвестициям. Скажем, что будет, если собственник говорит, что не хочет продавать компанию менеджерам? Менеджмент может предупредить, что уволится и уведёт за собой ключевых сотрудников, а у собственника останется владение пачкой юридических документов компании, непонятной суммы долгов по недавно взятым на эту компанию кредитам, а также старые столы, стулья и некоторое количество морально устаревшей техники, что стоит заведомо меньше той суммы, которую предлагают менеджеры для выкупа. А менеджеры учредят новую компанию, потратив деньги не на выкуп доли, а на закупку нового оборудования. Инвесторов же они тоже найдут новых, если потребуется, ибо все знают, работать они умеют — и работают-то они, а не владельцы! А вот умеет ли владеть компанией текущий владелец, у которого эту компанию выкупают? Может ли владелец рассчитывать на «пассивный доход» в небольшой компании, или он как-то должен участвовать в управлении? Совсем недаром в большинстве фильмов про рынок ценных бумаг повторяется мотив, что «в жизни совсем не так, как в учебниках». Да, в жизни люди ведут себя крайне изобретательно и имеют абсолютно разные представления о том, что делать этично, а что неэтично, в чём договариваться обязательно, а в чём можно просто принять собственное решение или наоборот, подчиниться чужому решению.
Особое внимание надо уделять и отношениям с собственниками/investorrelations (IR)****, прежде всего при акционерной форме собственности. Это часто выделяют в отдельную практику. Главное тут — это публичное раскрытие информации, что сильно отличается от привычной практики «охраны коммерческой тайны». Это очень контринтуитивно, ибо ещё и поддерживается законодательством. Так, многие предприятия выбирают не выходить на биржу как раз для того, чтобы не иметь законодательных обязательств раскрывать информацию о своей деятельности — хотя лишние деньги, собираемые от инвесторов, этим предприятиям бы не помешали, но такие предприятия выгоды от сохранения тайны деятельности считают, что перевешивают выгоды от выхода на биржу.
Что касается практики управления слияниями и поглощениями/mergesand****acquisitions (M&A), то это отдельный большой предмет. Неорганический рост за счёт дружественных и недружественных поглощений других компаний — это очень важное направление корпоративного развития, но на этом пути подстерегает множество ошибок, удачных слияний и поглощений не так много.
Занятие всеми этими практиками привлечения инвестиций, а затем поддержания отношений с владельцами (мы в курсе менеджмента рассматриваем только эту сторону вопроса, если бы мы создавали курс для инвесторов, то мы писали бы «вложение в компанию, а затем поддержание отношений с менеджментом») требует профессионализма, и какого-то уровня владения текущей культурой инвестирования, ибо в курсах и учебниках даётся явно не всё знание, да ещё и сильно привязанное к какой-то страновой культуре. Если вы как менеджер вышли на уровень плотного взаимодействия с советом директоров, а то и собственниками, поднимайте свой уровень квалификации в инвестициях, учитесь, причём не факт, что текущее знание будет надлежащим образом отражено в учебной литературе — жизнь меняется много быстрей, чем литература.