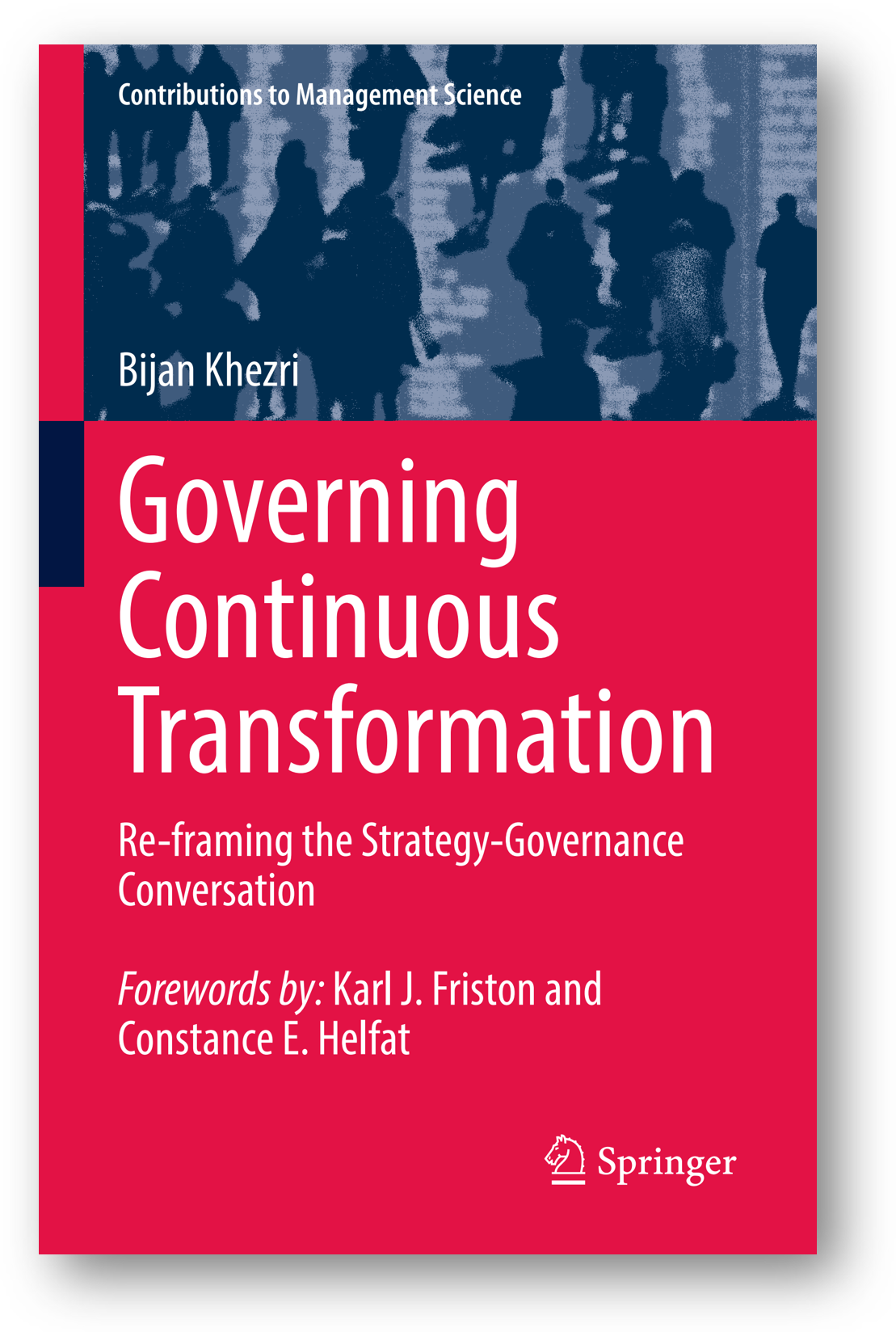Практика стратегирования
Переход от стратегии к стратегированию крайне важен: стратегия ничто, а стратегирование (непрерывная разработка стратегии и непрерывный переход к её реализации во всё новых и новых версиях)****— всё.
В третьем поколении системного мышления учитывается время эволюции, непрерывное развитие систем, в нашем случае это не только надсистемы в окружении целевой системы, что приводит к необходимости изменений в целевой системе, но и системы в цепочке создания, что приводит к необходимости постоянного оргразвития, прихвату новых SoTA практик работы, устранению старых практик, иначе не выжить в конкуренции. Надо забыть о стратегии в виде чего-то незыблемого и перейти к непрерывной её разработке.
Практика стратегирования в бизнесе имеет не очень долгую историю, и по большей части это история неудач[1]:
- До 40-х годов прошлого века: стратегия только у военных. Бизнес про стратегии и стратегирование не слышал.
- Бюджетирование (James McKinsey, Budgetary**Control, 1922) как предтеча бизнес-стратегий. Бюджеты как запланированные траты, которые должны были пополняться запланированными доходами исполнялись, но запланированные доходы почему-то не случались.
- Стратегическое планирование (60-70-е годы прошлого века, упор на анализ, чтобы точнее «понять рынок»). Менеджмент по целям (management by objectives) — классический пример поветрия. Научно обосновать спрос и спустить «стратегию» как требование заработать столько-то денег на таком-то рынке снова и снова оказывалось невозможно: сотрудники могли исполнить такую стратегию, а вот клиенты почему-то не входили в положение и не исполняли её, не покупали в запланированных количествах. Сейчас словами «стратегическое планирование» обозначают самую плохую практику: «я придумал вам стратегию в виде подробного плана действий, вам нужно только выполнить эти действия, и мы разбогатеем».
- Самосбывающиеся теории в основе стратегирования (80-90-е прошлого века, основанные на ошибочном понимании рынка как равновесия спроса и предложения: теория сравнительных преимуществ) — mission statements and core competencies. Оценка силы и слабости как самый популярный приём (SWOT — strength, weakness, opportunities and threats), 5 сил, работы Портера по пути к мифу «sustainable competitive advantage», то есть «самоподдерживающееся/устойчивое конкурентное преимущество». Жизнь показала, что самые сильные стороны сегодня становятся залогом проигрыша завтра: если у тебя самая лучшая в мире фотобумага, как у Kodak, то ты просто не замечаешь прихода цифровой фотографии, где фотобумага не нужна вообще, а фотографии рассматриваются главным образом на экранах мониторов.
- Огромная россыпь текущих подходов к стратегированию есть и сегодня (2022 год): надёжно работающих среди них нет! На каждый пример есть контрпример!
- Одно стало понятно: провал стратегии**—** это просто повод её подправить в очередном цикле**, а иногда не «подправить», а радикально изменить** (ну, или это действительно провал, если ресурсы уже кончились и их не хватит на реализацию очередной версии).
Непрерывное стратегирование стало ответом на многие вопросы типа «а что делать, если стратегия оказалась провальной». Ответ: продолжать пробовать что-то ещё, не останавливаться — пока хватает на это ресурсов. На рынке, как выясняется, побеждает часто не самый умный или самый удачливый, а самый толстый: у него хватает денег пережить многочисленные изменения стратегии, пережить многочисленные ошибки в оценке ситуации.
Но кто выполняет роль стратега и в чём суть практики стратегирования? По факту в стратегировании речь идёт об увязке:
- Визионерства как оценки того, что продуктные инициативы прибыльны (разработчики продукта выдают концепцию использования и какую-то концепцию системы, службы продвижения по концепции использования дают оценку по объёму возможных продаж, разработчики дают оценку стоимости реализации концепции системы — визионеры пытаются увязать одно с другим и прикинуть, сколько денег на каком интервале времени это принесёт),
- Бизнеса как оценки того, что компания сможет взять инвестиции с рынка в текущей и продать компанию в будущей ситуации (страновые риски, финансовые риски, репутационные риски, какие-то возможные проблемы с учредителями, ситуация с заёмными средствами, а ещё что там думают визионеры по поводу продуктов и сервисов, а также организаторы и архитекторы по поводу самой компании).
В итоге появляется стратегия, как набор решений, ограничивающих как свободу разработчиков (какие продукты выпускаем, на какие рынки идём), так и свободу организаторов (сколько денег они могут инвестировать и с какой скоростью «прожигать деньги инвестора», какие архитектурные характеристики считать важнейшими для того, чтобы оставить благоприятное впечатление у инвесторов).
Если «визионерство» и «бизнес» выглядят как попытки удачно угадать будущее (помним, что предложения по поводу будущего приносят главным образом разработчики и организаторы, при этом в процессе как-то участвуют продвиженцы по части продукта и финансисты по части инвестиций), то стратегирование — это организация переговоров всех этих ролей с целью получить согласованные между собой оценки визионеров и бизнесменов по поводу продуктов, рынков для этих продуктов, а также организационных усилий для достижения этих результатов.
Главным в организации этих переговоров обычно выступает бизнесмен. Если фирма в конечном итоге работает в убыток, её стоимость падает — фирму закрывают, дальше исполнители всех других ролей будут искать себе другие работы. Поэтому слово бизнесмена самое главное — он выражает интересы собственников фирмы, как он скажет по части принятия решений, так в конечном итоге и будет. Проблема только в том, что у него такие же гипотезы по поводу будущего, как и у всех других, и они могут не подтвердиться. Но по поводу его распоряжений — это не гипотезы, а исполняемые решения. Скажет по поводу какого-то стратегического решения «мы этого делать не будем» — и проект не будет финансироваться, но если скажет «мы будем вот это делать», то именно это и будет делаться. Если всё с прибыльностью фирмы сейчас и в будущем ОК, то бизнесмен не вмешивается, это надзор/governance за ходом стратегирования. Поэтому стратегированием занимаются все, оно распределённое по самым разным ролям (и тем самым должно быть организовано, компания должна практиковать стратегирование, менеджер-организатор должен предусмотреть поддержку этой практики)****, но слово бизнесмен****а по утверждению стратегии оказывается главным**, именно он** является интерфейсом к собственникам/инвесторам и именно он высказывает свой прогноз о том, что будет происходить с рыночной оценкой фирмы**.**
Да, к личному стратегированию это всё тоже относится. У каждого человека тоже есть цена, которая может или расти, или падать, когда он продаёт себя на рынке. И как и в реальном бизнесе, денежный поток от себя можно потратить или на накопление (стать инвестором в бизнес), или на личные нужды (например, удовлетворить свой интерес в каком-то хобби), ибо как мы уже знаем, тут тоже работает теория субъективной полезности: что крайне полезно для одной личности (или фирмы), не будет иметь никакой пользы для другой личности (или фирмы), поэтому и выражение денежной оценки может существенно различаться. Кому-то нравится работать-зарабатывать, кому-то «играть на бирже» по принципу игры в казино, кому-то нравится путешествовать и зарабатывать при этом не больше чем на хлеб и воду, а жить в дырявой от старости палатке. Вы — сами себе ресурс, и сами для себя визионер и бизнесмен. Вы вкладываете своё время или в дополнительное образование, или в какие-то общественные проекты, или в какие-то бизнес-проекты рационально (прикидывая ваши шансы на основе каких-то объяснительных теорий, а не слепо «веря»), надеясь на то, что ваша стоимость как своего собственного ресурса (или чужого ресурса, если кто-то за ваше использование готов платить) через некоторое время после этого вложения будет больше. При некотором уровне удачи в сочетании с личными качествами и упорностью при выборе ваших вложений сил вы как ресурс будете ценнее, или нет. Но вкладываться в какое-то дело (учёбу, или работу, или навязываться куда-то на нахлебничество) придётся, и в этом по отношению к себе в каждом вашем целенаправленном (как бы туманно ни была сформулирована цель) действии вы сами себе ресурс и сами себе предприниматель, даже если не организовываете предприятий, нанимая в качестве ресурсов других людей.
Основной инструмент согласования самых разных интересов/«предпочтений в важных характеристиках» самых разных ролей — это моделирование. «Все ходы записаны» — это обязательное требование к стратегии, надо использовать для удержания к ней внимания коллективный экзокортекс. Должна обеспечиваться коллективная собранность, на стратегии должно удерживаться коллективное внимание как в ходе её непрерывной разработки и переходу к реализации, так и в ходе реализации. Как минимум, должны быть созданы следующие модели (они и есть «стратегия»):
- Бизнес-модель — в какой форме за какой продукт у клиентов забираются деньги, и будет ли это выгодно.
- Модель оргразвития — какие новые практики работы нужно освоить (что делаем), чтобы выжить в быстро меняющейся ситуации (состояние желаемого мира), и почему (обоснование, почему практика приведёт к желаемому состоянию). Миссия/mission и видение/vision — это тут.
- Модель целеполагания (увязки интересов) — каким деятельностным ролям что надо и как этого добиться (какую практику применить).
Откуда же берутся стратегии? Их придумывают, понимая при этом, что статус этих стратегий — догадки, это «стратегические гипотезы». Все модели построены на догадках о том, как устроен мир. Эти догадки существуют до тех пор, пока не опровергнуты логической критикой, или экспериментом — в эксперименте может оказаться, что какая-то другая догадка, которая тоже выдержала логическую критику, даёт совпадение её предсказаний с жизнью лучше, чем текущая, поэтому текущая догадка считается фальсифицированной/falsified/опровёргнутой. Иногда её откидывают, но иногда просто подправляют.
В этом плане создание стратегии как согласованного набора моделей, верхнеуровнево (достаточно абстрактно) описывающих фирму и её целевые системы сродни изобретательской задаче: надо получить идею фирмы, которая будет успешна в её окружении. Поэтому методы решения изобретательских задач, рассматриваемые в курсе «Системная инженерия», например, ТРИЗ, вполне будут работать и со стратегией. Идея о том, что «в стратегии обязательно есть хитрость» идёт как раз из такого рассмотрения.
По мере обнаружения ошибок в догадках, будет происходить коррекция стратегии, а ошибки будут всегда: стратегия документируется, а жизнь не останавливается. В какой-то (обычно не очень далёкий) момент оказывается, что модели и жизнь разошлись очень сильно — и нужно или корректировать жизнь, или корректировать стратегию. Стратегию корректировать оказывается обычно проще, так что непрерывность стратегирования вынужденная.
Бывает не стратегирование, а обратное действие: «ретроспективное придание смысла». В консультативной практике его заметили как особую практику IBM, но этим характеризовались и многие другие фирмы. Богатая фирма осуществляет множество проектов, пробуя самые разные догадки, выпускаются самые разные продукты, никакого особого плана за этим нет. Но после того, как нашёлся особо удачный продукт, особо удачная бизнес-модель, особо удачная организация фирмы, составляется ретроспективное описание, из которого следует, что фирма прямо и непосредственно планировала этот успех, осуществила для этого множество проектов, которые привели её к успеху. Просто те проекты, которые нельзя уложить в такой красивый рассказ, не упоминаются. В результате возникает ложное убеждение, что в фирме работают очень умные стратеги, которые видят будущее на много лет вперёд, менеджеры упорно добиваются выполнения планов. Но нет, ум тут в том, чтобы много чего пробовать — чем больше стратегических идей будет опробовано, тем более вероятно нахождение по-настоящему удачной идеи, долго приносящей много прибыли при малых её модификациях.
Настоящее стратегирование как согласование множества самых разных предложений, самых разных интересов, невидимо: оно происходит во множестве разговоров между самыми разными агентами, в самых разных частях организации. Но есть видимая часть: проведение редких стратегических совещаний, выездных сессий, рабочих встреч. Эта видимая часть не должна вводить в заблуждение. Часто на таких мероприятиях просто доводится до сведения уже более-менее согласованная версия новой стратегии, или вносятся незначительные изменения в уже существующую стратегию (то есть сущностно моделирование ведётся за пределами этих совещаний, но на совещаниях обсуждаются имеющиеся варианты решений и оценивается уровень согласования: поддержки стратегии исполнителями самых разных оргролей).
Время от времени обсуждают в связи со стратегиями ещё два варианта реагирования на изменения окружающей среды: типовая стратегия ежа (который очень хорошо умеет делать только одно: сворачивается в клубок и выставляет иголки) и типовая стратегия лисы (которая очень изобретательна и всё время делает что-то новое — то хвостом помашет на того же ежа, то попрыгает рядом, то потявкает, то вдруг закатит ежа в протекающий рядом ручеёк). Жизнь показала, что стратегия ежа как-то была применима раньше, но сейчас перестала помогать: умения ежа в новой ситуации часто оказываются ненужными, и нужно срочно что-то придумывать новое. Поэтому в современности выигрывает только типовая стратегия лисы, придумывание нового и нового реагирования на изменяющиеся обстоятельства. Побеждают в конкуренции те, кто реагирует быстрее и точнее.
И тут нужно вспомнить о многоуровневости стратегирования: оно должно вестись на всех системных уровнях организации (если нам нужно что-то изменить быстрее и точнее, то надо иметь многоуровневость и многоразмерность на этих уровнях, помним про исследования John Doyle[2]).
А вот книга, Bijan Khezri, «Governing Continuous Transformation. Re-framing the Strategy-Governance Conversation», 2022, которая напрямую связывает подход active inference и непрерывную реорганизацию, которая подразумевает надзор над этой реорганизацией со стороны непрерывно изменяющейся стратегии на базе идей active/embodied inference, которые мы рассматриваем в наших курсах системного мышления, методологии, системной инженерии и вот теперь системного менеджмента: